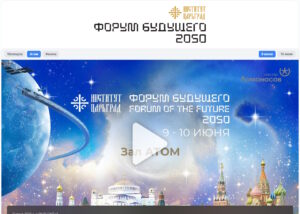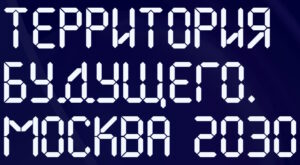Важнейшей целью Ассоциации является привлечение внимания общества к проблемам будущего, начинать решать которые необходимо уже сегодня.
АССОЦИАЦИЯ ФУТУРОЛОГОВ
ФУТУРОЛОГИЯ. ПРОГНОСТИКА МОДЕЛИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
» политика
Форум Будущего 2050. Институт Царьград.
Темы: конференция, мероприятия, общество, политика
9 и 10 июня 2025 года в Москве, в новом кластере МГУ “Ломоносов” состоялся “Форум Будущего 2050”. В отличие от других мероприятий, посвященных прогностике и футурологии, институт “Царьград”, возглавляемый Александром Дугиным, сконцентрировался на роли России в будущем мире. Этому были посвящены и выступления министра иностранных дел С.В.Лаврова, гостей и участников форума. Доклад форума доступен по ссылке.
Каким бы привлекательным не рисовался образ будущего, как бы логически и исторически верно и понятно не обосновывалась роль России, как государства хранителя традиций и морально-нравственных ценностей, без конкретного материально исполняемого проекта, воплощения теории в практические действия, все образы будущего останутся только красивыми картинками и правильными словами.
Территория Будущего. Москва 2030
Темы: мероприятия, общество, политика
В Москве с 01 августа по 08 сентября на нескольких площадках проводится Фестиваль “Территория Будущего. Москва 2030”. Подробности, программа, билеты на мероприятия и фотогалерея на доступны на сайте:
“Вас ждут более 30 площадок, наполненных энергией
и смыслами города настоящего будущего.
Вы сможете посетить
футуристический фестиваль
передовых технологий и инноваций,
кластер ночной жизни,
фестиваль электронной музыки, фотовыставки,
гастрономические кварталы, арт-кластер,
кинопоказы, спортивные мероприятия и многое другое.”
Новый Завет Политической Экономии
Темы: Информация, кризисы, культура и искусство, массовое сознание, методология и гносеология прогнозирования, мораль, наука, общество, политика, природа человека, социальная философия, техника и технологии, философия, футурология; моделирование будущего; проблемы футурологии, эволюция, экономика
Новый Завет Политической Экономии
Благая Весть Капитализма и Коммунизма в Информационную Эру.
В этой работе изложены взгляды автора на законы истории и порождаемые ими циклы, пронизывающие все стороны жизни людей.На основе теории управления приведен анализ ресурсов, требуемых властвующей элите для стабилизации общественных и экономических процессов. Предложена модель новой экономики на базе денег, состоящих из двух компонент, имеющих физическую размерность и согласующих как равенство, так и неравенство людей. Дальше »
Футуристический проект «сверхчеловека СССР» – может ли он быть востребован сегодня?
Темы: политика, природа человека, философия
Концепция сверхчеловека, вульгаризированная германским нацизмом, на самом деле являлась одним из философских образов будущего, возникшим в эпоху модерна. Взлёт и крушение Советского Союза удивительно точно коррелирует с циклом ее развития и заката в XX веке. Сегодня, когда новая «экономика знаний» позволяет вернуться к реализации этой императивной антропологической идеи, насколько актуальны опыт СССР и соответствующие представления европейской и отечественной философии?
Статья подготовлена на основе материалов доклада «Фактор “нового человека” как источник взлёта и падения советского государства», представленного автором на Всероссийской научной конференции «От СССР к РФ: 20 лет – итоги и уроки» 25 ноября 2011 г.
Генезис Советского Союза как государственного образования принципиально нового типа нельзя рассматривать вне контекста развития общечеловеческой идеи об изменении природы человека, о формировании людей с новыми сознанием, моралью, волей и с невиданными прежде способностями. Революционные преобразования, произошедшие в начале XX века сразу в пяти мировых империях – Китайской, Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской – во многом определялись предчувствием кардинальной смены «ветхой» человеческой природы, необходимостью ее обновления. Прогрессивное обновление человеческой природы вслед за прогрессом производительных сил – именно так должен быть сформулирован основной вызов той эпохи.
«Предчувствие сверхчеловека» начало формироваться в европейской философии еще в начале XIX века. Всё быстрее и динамичнее меняющийся мир более не мог объясняться Божественной волей, отсюда основой мироздания становилась воля природных сил, достигающая в человеке своей высшей объективации (А.Шопенгауэр). Следующим шагом была абсолютизация человеческого «Я», получившая свое выражение в трудах И.Фихте и М.Штирнера, и завершившаяся целостной концепцией сверхчеловека у Ф.Ницше. Согласно Ницше, задача сверхчеловека – противостоять своей волей злым природным силам (природной воле), управляющим миром.
Европейское отождествление человеческого «Я» с основой мироздания в полной мере соответствовало задачам и идеалам технологического уклада, который с середины XIX века всё настойчивее реализовывал себя через крупнокапиталистический строй. Вместе с тем, оно несло и неразрешимое противоречие: подобный строй, привечающий «сверхлюдей» в лице предпринимателей, финансистов и технократов, совершенно не нуждался в развитии сверхчеловеческих качеств у остальной части населения, уделом которого становился наемный функциональный труд. Мы увидим, что весьма скоро это противоречие приведет к кризису западной идеи сверхчеловека и выработке в ней принципиально иных философских доктрин.
Альтернативная концепция сверхчеловека, в полной мере способная преодолеть данное противоречие, возникла и развивалась в России. Поиск «русского сверхчеловека», начало которому было положено в трудах Н.Страхова, В.Соловьева, Н.Федорова и других отечественных философов, основывался на духовном возрождении и преображении его земной природы. Посвящая часть своей воли собственному совершенствованию и приближению к Творцу, русский сверхчеловек уже одним этим получал возможность снять противоречие между Творцом и тварью, вследствие которого на земле существуют неравенство и нужда. Согласно Н.Страхову, человек – центральный узел в мироздании, в трактовке Н.Бердяева – именно человеческий свободный творческий дух способен преодолеть ограниченность бытия.
При внешне схожем антропоцентризме, западная и русская трактовки сверхчеловека различались в своих «предельных состояниях»: европейская модель стремилась к экзистенциальному преодолению ограниченной земной сущности человека, русская же – несла идею преображения человеческой сущности, идею создания Нового человека, идею Богочеловека.
«Но какое значение все эти философские инвективы имеют для жизни?» – спросите вы. Оказывается, самое прямое и непосредственное. Философы, будучи людьми умными и духовно развитыми, лучше остальных чувствуют перемены, которые несут законы мироздания, преломляясь в изменяющемся человеке – по причине чего их книги хотя бы изредка стоит читать.
Именно предвосхищение, «предчувствие Нового человека» явилось глубинной основой успеха русской революции 1917 года. Революционеры и увлечённые ими массы самых разнообразных партий и пошибов могли быть сколь угодно корыстны, извне мотивированы, ограничены, бессердечны, безумны – но они никогда не променяли бы спокойную жизнь и налаженный быт на лишения и борьбу, если подобные предвосхищения и внезапно открывающиеся идеи близкой новой жизни не снедали бы, не лишали покоя и сна. Большая их часть никогда не читала философских книжек, зато философы могли достаточно точно предсказать и заранее описать те состояния и обстоятельства, которые с неизбежностью будут вынуждать людей пытаться изменить свою жизнь.
«Дворцовый переворот» с захватом «командных высот» на II Съезде Советов в Петрограде, к которому сегодня часто пытаются свести революционные события 1917 года, никогда не смог привести к созданию на обломках империи нового могучего государства, если бы идеи глубинного, подлинного преображения человеческой природы, для воплощения которых в новом государстве открылся необходимый простор, не обеспечивали ему реальную поддержку со стороны миллионов. Желание пограбить, обязательно присутствующее при любой революции, не может быть креативным – креатив, необходимый для успеха революционных преобразований, давало представление о том, что старая царская Россия, безнадёжно отстав от Запада, рискует, пытаясь устранить этот разрыв, ещё более увязнуть в тенетах проблем, из которых Запад еще даже не начал выбираться. Средний русский человек начала XX века едва ли имел даже относительное представление о реальных проблемах Запада, но точно знал, что Божьего царства в Европе и Америке нет. Поэтому не было и смысла их догонять, необходимо было волевым усилием перенести себя в некое более совершенное Новое общество, которое затем всё тою же своей волей продолжать развивать. Широкое укоренение в России марксистских идей позволяло не сомневаться, что Новое общество реально (не могли же два бородатых «немца» ошибиться!) – стало быть, реален и рывок в него. И когда подобное представление стало массовым, революция сделалась неизбежной.
Запомним эту логическую связку: тёмная несправедливая жизнь – еще большая несправедливость, маячащая за ближайшим поворотом; зато далее – сверкающее царство истины и добра, путь к которому закрыт природными и социальными «злобными силами». Употребив свою волю на преодоление этого разрыва, добиваемся для себя искомой новой жизни и – посредством всё той же воли – начинаем заниматься собственным преображением. В переводе на язык философии это звучит так: в человеке, совершающем революции и строящим Новую жизнь, природные силы получают высшую объективацию, благодаря чему человек возносится над природой и над жизнью. Атеисты на этом могли поставить точку, люди с верой могли бы добавить, что человек при этом еще и уподобляется Творцу – к чему, как известно, каждый христианин должен стремиться. Сказанное выше – не заурядная формула революции. Это программа генезиса сверхчеловека с преображенной природой, о котором писали русские философы.
Так что в становлении Советского Союза идеал Нового человека, или сверхчеловека, сыграл едва ли не определяющую роль. Он на подспудном, часто неосознаваемом уровне сознания оправдывал потери и лишения, убеждал в некорыстном характере перемен, без использования каких-либо PR-технологий обращал к СССР подлинные симпатии миллионов людей во всем мире. «Очарование советским строем», которому в довоенные годы поддавались даже наши прирожденные недоброжелатели, было ничем иным, как отражением ярких, подлинных, не нуждавшихся в управлении извне результатов человеческого развития и преображения. Несмотря на официальный атеизм советского государства, в своей сути этот процесс имел христианскую моральную основу – что, в частности, определяло открытость и интернационализм советской модели.
Основу бытия Нового человека должны были составлять всезнание, универсальность, свобода от пороков «проклятого прошлого», стальная воля, вера и идеал и т.д. В отличие от Запада, в Советском Союзе идея сверхчеловека внятно и отчетливо никогда не провозглашалась, однако это не мешало ей глубоко укорениться в сознании людей, стать едва ли не основной частью советского акматического идеала. Если не касаться записных героев той эпохи – лётчиков, полярников, героев Испании и Хасана, – то на практике массовый идеал советского сверхчеловека реализовывался через отрицание свойств и характеристик «человека прошлого». Действительно, дореволюционная эпоха для большинства была тёмной и страшной страницей истории, в то время как строительство новой жизни кардинально меняло людей, выводя прежние пороки и привычки за грань нравственно допустимого. И, конечно же, идеал сверхчеловека проявлял себя через неистовое стремление к знаниям. Ни одна из инициатив советской власти не имела столь живого и горячего отклика, не обрела столько миллионов последователей и искренних почитателей, как развитие в СССР первоклассного среднего и высшего образования. Что бы ни говорили сегодня о «реализме» и трагичности той эпохи, определяющими отношениями для бытия людей в Советском Союзе до конца 1930-х годов были сильнейший акматический подъем и подлинная гонка за новыми знаниями, новыми практиками, новыми талантами.
В советском акматическом идеале очень важную роль занимала задача истребления косного и рутинного труда, на смену которому должен был прийти труд свободный и творческий, с невиданными доселе показателями производительности. Последнее – очень примечательно, поскольку одновременно с человеком преображению подлежала и сфера производства материальных благ: советский сверхчеловек должен был «проскочить» ограниченность существующего промышленного уклада и, как можно скорее, отказаться в технологическом укладе Будущего, где необходимые блага будут производить машины, а призванием сверхлюдей станут научный поиск, технологическое творчество и искусство.
Конечно же, создать в СССР общество сверхлюдей не удалось. Был лишь явный и мощный градиент движения к этому идеалу – но даже он значил весьма многое, буквально за считанные годы радикально меняя людей. Однако в сфере межнациональных отношений сверхчеловечность в СССР вполне состоялась, поскольку в стране был реально преодолен национализм. Для общества, намеревавшегося волей своих членов изменять мир, категории, подобные этничности, становились ничтожными и неразличимыми. Советский интернационализм, сформированный и укоренённый за считанные годы, был подлинным и непридуманным. Между прочим, если бы германский рейх также опирался на интернациональную идею – хотя бы в рамках европейской общности наций – он был, скорее всего, непобедим.
Также в СССР не удалось сформировать и законченной теории Нового человека – советского сверхчеловека. Сначала официальная марксистская доктрина крайне настороженно относилась к «религиозным экивокам» дореволюционной русской философии (достаточно вспомнить разгром Лениным идей «богостроительства» марксистов Луначарского и Базарова-Руднева, в которых содержалась искренняя попытка найти основу бытия в результатах человеческого творчества). А по вполне понятным причинам с конца 1920-х годов «сверхчеловечность» терминологически начала считаться в СССР проявлением фашисткой идеологии.
Однако к тому времени начала трагически эволюционировать и меняться западная идея сверхчеловека. Как мы помним, в ней не содержалось идеи человеческого преображения: европейский сверхчеловек, преодолевая волей сопротивление косных природных сил, а также самого себя в процессе безжалостного дарвиновского отбора (помните знаменитое «Падающего подтолкни!»), должен был лишь воссоздать свою подлинную, исходную и неискаженную природную сущность. Отсюда европейский сверхчеловек, закончив решать проблемы с природой и обществом, должен был попросту стать хозяином последних. Но в «непреображённом» мире, где миллионы людей вынуждены были продолжать трудиться в шахтах и у станков, «сверхлюди» могли укорениться лишь в вершине социальной пирамиды, нижние ярусы которой отводились для не прошедших естественный отбор «унтерменшей». Достигшая подобного концептуального завершения в гитлеровской Германии, сверхчеловеческая идея стала идеей античеловечности, то есть выродилась.
На смену вырождающейся идеи сверхчеловека в Европе к началу тридцатых годов пришла «философская антропология» М.Шелера и А. Гелена (оба философа, что показательно, были немцами, а Гелен даже вступил в НСДАП – то есть их сознательный уход от «официального» ницшеанства более чем показателен). Основная мысль «философской антропологии» – человек в высшей степени сложен и иерархичен, волевые порывы не способны решить никаких его проблем, заниматься нужно самопознанием (для избранных) и социальной гармонизацией (для остальных). Иными словами, человека надлежало с существующим порочным и несовершенным обществом примирять, благодаря чему общество постепенно тоже должно было меняться к лучшему. «Мещанство!» – воскликните вы. Совершенно верно, на смену технологически невозможному преодолению несовершенной и несправедливой жизни следовал призыв к отказу от «излишних» человеческих претензий, к примирению и сознательному конформизму.
Значительно более достойный и отнюдь не «мещанский» путь к разрешению противоречий между человеком и средой предложил европейский экзистенциализм. Вместо познания человека в координатах мировой иерархии в качестве основной задачи людей было провозглашено познание человеческой сущности, которое предполагало уход от идей рационального преобразования мира в направлении переживания индивидуального иррационального бытия.
Экзистенциализм оказался поистине гениальным открытием философии, поскольку вернул слабому, «маленькому человеку» точку опоры, научил выживанию в жутком, свирепом и не поддающемся преобразованию мире с сохранением чести, лица, с простором для личного внутреннего развития, против которого бессильны все вместе взятые эксплуататоры, негодяи и палачи. Ж-П.Сартр был абсолютно прав, назвав свой знаменитый доклад «Экзистенциализм – это гуманизм». Пожалуй, в кошмарной реальности середины XX века иного убежища для гуманизма просто не существовало. Увы, знание об этом было доступно в те годы только немногочисленной интеллектуальной элите: именно поэтому самый значительный в мировой литературе экзистенциальный роман – «Мастер и Маргарита», будь он опубликован каким-то чудом в 1940 году, остался бы не понят и, скорее всего, искренне проклят – причем не только в СССР, но и в Европе. Сверхчеловеческая идея к тому моменту еще не достигла своего предела и продолжала развиваться – поэтому пронизывающая роман вполне христианская идея обращения человеческой воли вовнутрь самого себя – несмотря на то, что для этой воли имелись более доступные и выгодные земные приложения – у Булгакова могла проявиться только в декорациях дьявольского карнавала.
Подобные малозначимые для широкой публики философские и литературные нюансы означали, на самом деле, фундаментальный поворот, который мировая промышленная цивилизация начала совершать с 1930-х годов от классических идей антропоцентризма к идеям функционализации человека, к превращению его в один из производственных элементов будущего технократического строя. Мы уже говорили, что философские идеи обычно опережают свое время: так вот, время «функционального» человека, довольствующегося полнотой бытия исключительно «внутри себя», в полной мере наступает именно сегодня, когда в условиях сверхразвитых производительных сил, контролируемых тончайшей прослойкой финансовых и технократических элит Запада, уделом остальных становится одинаковый для работяг и менеджеров редуцированный функциональный труд. И если подобное состояние общества не будет преодолено, то экзистенциализм останется, пожалуй, единственным выходом для тех, кто, не желая превращаться в чипированных киборгов, намеревается сберечь свою человеческую природу. Не думая о «свете», по крайней мере, заслужить для себя и своих близких воландовского «покоя» – ведь как говорят футурологи, киборги не будут умирать в привычном и полном смысле, детали их организма и мозга смогут использоваться и работать вечно…
Но вернемся в эпоху великих иллюзий и несокрушённых надежд. Советский Союз, развивавшийся в 1930-е годы по логически иному, чем капиталистический Запад, пути, через отрицание едва ли не единственного отношения редукции сложного труда к труду простому (так как сверхчеловек по определению способен непосредственно производить и обмениваться продуктами сложного труда) обретал номинальную возможность избежать кабалы функционализации. Имел возможности для укоренения и дальнейшего развития в своих гражданах подлинных сверхчеловеческих творческих начал, для преобразования общества исполнителей в общество творцов, для изменения, в конечном итоге, самой природы человека. В техническом плане для этого было нужно создать производительные силы, которые были бы в состоянии обеспечивать изобилие жизненных благ с минимальным (а лучше – с нулевым) расходом простого труда. Между прочим, именно подобная метацель стояла за позднесталинскими инновациями, связанными с развитием ядерных технологий, энергетики, органической химии, электроники и других сверхновых на тот момент отраслей, чьи гигантские темпы роста в конце 1940-х – начале 1950-х годов в полной мере поддерживали подобную убеждённость, а колоссальные ресурсные возможности СССР делали реалистичными разговоры об экономике, в которой стоимость товаров со временем будет стремиться к нулю. Но для достижения подобного успеха было необходимо начать рассматривать бытие советского общества как уникальный всемирно-исторический шанс во имя земного человеческого Преображения, во имя Богочеловечества. Увы, подобные идеи, в изобилии рождавшиеся и развивавшиеся накануне революции и в первые годы после нее (группа “Вперёд”, «каприйская школа», М.Горький, русский постреволюционный авангард и т.д.), уже к середине тридцатых годов оказались исключенными из общественного дискурса. Хотя Сталин, отдадим ему должное, так и не позволил в годы своей жизни ввести в советскую политэкономию классическую идею потребления – эту «антиновацию» сотворили уже в годы правления следующего советского лидера.
У нас стало едва ли не традицией и «хорошим тоном» возлагать вину за смену акматического общественного дискурса двадцатых-тридцатых годов на Сталина и установленный им «тоталитарный режим», истребивших «романтиков революции». Однако революционный романтизм являлся лишь внешней эмоциональной формой, одинаково приемлемой для различных человеческих типов: так, основной блок идей, противостоявших Сталину и тяготевших к словам и делам Л.Троцкого, как раз и исключал в революционере подлинную сверхчеловечность, рассматривая его в качестве функционального «винтика» в машине Мировой революции. Парадокс – но уничтоженное Сталиным «поколение революционеров» не носило в себе никаких идей сверхчеловечности, их идеалом, напротив, были «мобилизация масс» и создание трудовых армий, предвосхитивших ГУЛАГ. В этом контексте идеи Троцкого – при всём их внешнем революционном антураже – сегодня оказываются вполне комплиментарными дискурсу западной цивилизации на функционализацию общества, руководимого узкой элитарной прослойкой.
Парадокс второй – Сталин, учредивший в СССР жёсткую бюрократическую вертикаль и «деспотически подавлявший свободу», вполне разделял отвергнутые Лениным и Троцким идеи «богостроительства», а также рождённые «русским ренессансом» представления о Новом человеке. Собственно, «госзаказом» Сталина советской культуре было ничто иное, как задача воспитания этого самого нового человека. Причем идеалом становился отнюдь не послушный «винтик», а творчески одаренный, физически развитый, аполлоновского типа советский человек – чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к массовой советской литературе той эпохи. Причина, по которой при Сталине практически не строили малогабаритное доступное жилье, но зато возводили поразительные дома-дворцы, состояла всё в том же: советский сверхчеловек не должен был ютиться в «лачугах» и «клетушках»…
При всей неоднозначности и трагичности советской истории, опыт СССР по формированию Нового человека, или советского сверхчеловека, – уникален, и он ещё ждёт своего полноценного и объективного исследования. Поскольку «новый человек» в СССР рассматривался открытым миру, несущим всем нуждающимся защиту, знания, прогресс и т.д., одно уже это не позволяет проводить параллели между «тоталитарными режимами» СССР и гитлеровской Германии – желание уравнять которые сегодня становится навязчивой идеей у отечественных и западных либералов. Проявлять уважение к советскому проекту необходимо хотя бы потому, что в годы Второй мировой войны, в условиях равных техноэкономических потенциалов СССР и Германии, именно антропологический тип советского сверхчеловека в полной мере доказал свое и волевое, интеллектуальное и деятельностное превосходство над «арийским сверхчеловеком» – победа которого, сумей она состояться, изменила бы современный мир до неузнаваемости и отнюдь не в лучшую сторону.
К.Симонов как-то заметил, что «войну выиграл сталинский школьник». А ведь именно это самое поколение «сталинских школьников», родившихся в начале двадцатых и в полной мере сформировавшееся под воздействием идей преображения мира и человека, в течение своей недолгой – для большинства из них – земной жизни смогли собственной волей и жертвенностью изменить ход истории. Иными словами, в полной мере реализовали идею собственной сверхчеловечности. Страну и мир в годы войны спасли именно они, а не «истерзанные режимом бесправные орды» – будем же помнить, какого рода людям мы обязаны своим нынешним бытием!
В чем же заключалась неудача советской идеи Нового человека, и насколько с ее закатом потерпела фиаско глобальная идея русской философии по преображению человеческой природы, по воссозданию в ней Божественной сущности?
Прежде всего, новый человеческий тип не мог укорениться и воспроизводиться естественным путем в условиях старого промышленного уклада, основанного на использовании преимущественно редуцированного человеческого труда. Этот уклад господствовал на Западе, и он же – в процессе индустриализации – объективно воссоздавался в Советском Союзе. Возведённые в годы первых пятилеток промышленные гиганты лишь обеспечивали стране конкурентоспособность с Западом, но никак ни товарное изобилие и ни ликвидацию простого труда. Поэтому в части возможностей вести творческую, свободную от рутины выживания жизнь «сверхлюдьми» в СССР являлись лишь крупные ученые, конструкторы, организаторы промышленности, деятели культуры, военачальники… Элитарность данного человеческого типа, первоначально рассматривавшаяся как временное явление, так и не смогла быть преодолена. Советская элита, в свое время формировавшаяся на началах позитивного отбора, быстро превратилась в квази-феодальную прослойку, претендующую на ограниченное количество благ. Интерес «сверху» к продолжению позитивного отбора угас. Интерес же к позитивному отбору «снизу» не смог сформироваться в силу того, что превратившаяся в функциональные «винтики» большая часть советского народа почти не имела возможностей для изменения своего социального статуса, за исключением разве что комсомольской или партийной карьеры. Но для успеха в последней требовались отнюдь не «сверхчеловеческие» качества, а качества, определяющие негативный отбор – карьеризм, лесть, приспособленчество, цинизм и т.д.
Таким образом, необходимый для формирования нового человеческого типа позитивный отбор к концу 1930-х годов перестал работать в системе партийной и государственной власти, а к середине 1960-х покинул практически все сферы советской жизни. Причем критичным оказалось не изменение идеалов (генезис и смена идеалов – закономерный процесс), а смена мировоззренческих и поведенческих доминант, прежде всего отказ от примата деятельностности в пользу иждивенчества и уход от романтизма в область цинизма.
Последняя трансформация состоялась в связи с изменением психологического типа советского человека в процессе перехода от «классической эпохи» к технократическому обществу модерна. Сверхчеловек тридцатых был дуалистичен: идеологически устремлённый к высотам модерна, психологически он всё ещё оставался носителем общинно-крестьянских архетипов. Первоначально данный дуализм не только не был конфликтен, но и порождал синергию: архетипические общинные представления о Беловодье идеально сочетались с идеалом общества справедливости и гармонии, а многовековая крестьянская, артельная привычка к напряженному труду формировала мощнейшую трудоспособность. Из рассказов старших родственников многие из нас должны помнить, что в те годы мало кто использовал свое свободное время в целях привычного для нас сегодня отдыха в кресле у телевизора – большинство посвящали его какой-то обязательной практической деятельности: от занятий спортом с соседскими детьми до изготовления домашней мебели…
На приводимой ниже графической социометрической модели, группирующей общество в разрезе психологических и деятельностных мотиваций, показано, что для довоенной эпохи было характерно преобладание «дееспособных романтиков» – в основе своей Новых людей, выросших из общинной традиции. Рядом с ними – консорция «дееспособных циников» – профессиональных администраторов и политиков. Вместе они и образовывали мощный человеческий слой «сверхлюдей тридцатых», численность которого правомерно оценить в 55% от всего населения.
Катастрофа произошла с поколением детей «дееспособных романтиков» в шестидесятые-семидесятые годы. В неузнаваемо изменившемся к тому времени обществе и мире были полностью изжиты реликты общинного архетипа, питавшие романтический взгляд на жизнь, а аналогичных им, но уже из технократических сфер модерна – несмотря на все усилия советской научной фантастики – не возникло. Вместе со сменой знака психологической доминанты изменилась и доминанта отношения к труду, в результате чего к концу восьмидесятых в стране резко увеличилась численность «циничных иждивенцев» – наиболее антисистемного и балластного человеческого типа. Вчерашние «романтики» встретились в соответствующем квадранте с потомками не покидавших его десоциализированных элементов – всевозможных «бывших людей», гопников, представителей уголовного эгрегора и т.п. В тридцатые годы таковых также было достаточно – не менее 15%, к девяностым же их стало более трети. Там же и ожили причудливо трансформировавшиеся в эпоху модерна наиболее мрачные элементы древнего общинного архетипа – завистливость, нигилистичность, животное неприятие культуры как образа человеческой свободы, вандализм, поклонение и садистическое любование насилием. Если провозглашённая когда-то «страна мечтателей, страна учёных» была по доминанте своего менталитета страной прежде всего горожан, страной стремительно расширяющейся городской культуры, то к обозначенному рубежу СССР стал возвращаться в лоно полугородской, полудеревенской культуры посада. Понятно, что в таких условиях не могло быть речи не только о сверхчеловечности, но и об элементарном модерне.
Не могу не сказать и о горьких, затянувшихся поминках советского сверхчеловека – о нарастающем с послевоенных лет невиданном в истории цивилизаций национальном запое. Причиной этого запоя называют и привычку, берущую начало от пресловутых фронтовых «ста грамм», и послевоенный шок от масштаба человеческих утрат. Я же полагаю, что основная причина – прежде всего укоренившаяся в коллективном бессознательном скорбь по утраченной идее сверхчеловечности. Эта скорбь оказалась максимальной прежде всего у трех славянских народов – даже не в связи с тем, что славянство было несущим хребтом советского народа, а в силу того, что посредством сверхчеловечности обретал надежду на воплощение «комплекс Беловодья» – вековая славянская мечта о мире, гармоничном человеку, то есть преображенном его свободной и разумной – иначе сверхчеловеческой – волей.
Таким образом, прежде, чем прекратил свое существование Советский Союз, исчез тип человека, в интересах развития и во имя триумфа которого СССР строился и развивался на протяжении своих 67 лет. После 1991 года Россия подобрала остатки когда-то прекрасного человеческого материала, деградация которого продолжается на наших глазах. Чтобы преодолеть инволюцию российского общества, необходимо заново запустить процесс его социогенеза – однако где те сильные и неспекулятивные идеи, способные справиться с подобной задачей?
Самое поразительное в том, что такая идея есть, и это – по-прежнему идея сверхчеловечности. Я утверждаю так не из-за привязанности к только что изложенным умозаключениям, а в силу совершенно объективной закономерности: новый постиндустриальный строй впервые в человеческой истории формирует все предпосылки для того, чтобы сверхчеловечность наконец-то смогла быть воплощена!
Судите сами. Новый технологический уклад, основанный на биоэкономике (работают микроорганизмы) и роботизированных сборочных производствах (работают автоматы), делает реальным производство жизненных благ с существенным ослаблением ресурсных ограничений и минимальными затратами простого труда, а в своем пределе – и без таковых. Новые биомедицинские технологии снимают и другое ограничение – «лимит» по здоровью и продолжительности человеческой жизни. Таким образом, человек будущего освобождается от социальной и экзистенциальной ограниченности, а его свободная творческая воля – в полном соответствии с мыслями А.Шопенгауэра – становится полноценной основой бытия. И наконец-то получает возможность – теперь уже в соответствии с идеями русской философии – сотворчествовать Творцу в преображении мира.
Правда, в наиболее технологически развитой части мира – в обществах Запада – ничего подобного не предвидится. Антропологический дискурс там давно и устойчиво задан углублением отношения функционализации человека как единственно возможного способа его бытия в условиях экзогенно иерархизованного общества. Под этим сложным термином понимается весьма простая вещь: западное общество, сформированное и управляемое сверхузкой прослойкой финансовой и технократической элиты, может продолжить свое существование только при условии похищения, «убийства» свободного времени людей, высвобождающегося под воздействием прогресса технологий и медицины. Если в обществе будущего, где для получения жизненных благ люди смогут работать всё меньше, высвобождающееся время не «изымать», то по причине неизбежной реализации его членами своего подлинного творческого потенциала иерархичность общества начнет неуправляемо и необратимо изменяться. На смену экзогенной иерархичности, сформировавшейся и институциализировавшейся в далёком прошлом, придет иерархичность эндогенная – динамичная, подвижная, живая. Поэтому западные элиты, господству которых, в общем-то, ничего сегодня не угрожает, сделают всё для того, чтобы высвобождающееся свободное время граждан «золотого миллиарда» было посвящено пусть фиктивному, ритуальному, но зато безальтернативному функциональному труду. При всём могуществе и блеске Нового Запада рождения сверхчеловека там не предвидится. Зато значительно вероятнее, что киборги со временем возникнут именно в его пределах.
У России, несмотря на её длящийся упадок, сегодня парадоксальным образом есть абсолютно реальные и, пожалуй, наилучшие среди остальных стран мира шансы на возврат к антропоцентричной модели развития, единственной на сегодня способной сохранить позитивную человеческую природу, а со временем – и преобразить её. Беспрецедентные территориальные и ресурсные возможности, сохранение ядер основных научных и технологических школ, практическая доступность технологий нового уклада, практическая достижимость «экономики знаний» – и, конечно же, уникальный и бесценный своими взлётами и падениями опыт развития Нового человека. В нашей стране возможно не только укоренить паритетный с Западом новый технологический уклад, но и сформировать полноценную систему социально-экономических отношений, воспроизводящих подвижную эндогенную иерархичность. Подобная «параллельная Россия» вполне способна развиваться в режиме конвергенции с существующей общественно-политической системой, без революций и государственных потрясений трансформируя последнюю к собственным стандартам. Высшей земной ценностью преображённого подобным образом российского общества явится уже знакомое нам бытие сверхчеловека. А небесные идеалы каждый сумеет определить по вере своей.
Возрождение России в качестве своего важнейшего и необходимого условия должно опираться на восстановление творческой и полноразмерной природы человека как основы для развития его нравственных, интеллектуальных и духовных сил. И именно поэтому в коротком, неоднозначном, трагическом и ярком периоде советской истории мы можем отыскать подлинный и объективный опыт генезиса Нового человека, столь важный для России сегодня.
Историческая память и русское будущее. Глава из книги «Война мифов»
Темы: массовое сознание, общество, политика, социальная философия
1. Mythistory, или как сделана историческая память
Общепринятые представления о прошлом по недоразумению именуют исторической памятью.
В безосновательности подобного именования легко удостовериться, если вспомнить, что историческая наука стремится без гнева и пристрастия нанизать на причинно-следственные нити времени все события без исключения. В отличие от истории-энциклопедии, историческая память — это хрестоматия, избранные деяния предков, размещенные на полюсах греха и святости религиозного пространства. По мнению ведущего религиоведа XX в. Мирчи Элиаде, хранение в общественном сознании священных образцов поведения — основная задача мифологии. Таким образом, историческая память — это mythistory, прошлое, увиденное глазами мифа.
Черно-белая однозначность исторической памяти обусловлена тем, что в ее основании лежит мифологема битвы «добра» со «злом», так называемый «основной миф» — поединок божественного героя с демоническим противником.
Бой не на живот, а на смерть между Иваном-царевичем и Змеем Горынычем запечатлен в нашей памяти в качестве самого яркого сказочного образа. Основоположник структурной филологии В.Я. Пропп доказал, что все русские сказки имеют единый порядок сюжетных ходов. Позже выяснилось, что по этой формуле устроены волшебные сказки всех времен и народов. Каким образом объясняется это неслыханное сходство во всем остальном разительно отличающихся культур?
Один из самых авторитетных религиоведов современности Вальтер Буркерт считает, что происхождение данного феномена выходит за рамки культуры. По его мнению, сюжетное тождество сказок народов мира вызвано тем, что в них воспроизводятся биологические программы пищевого и сексуального поведения. Так поведение крысы, направляющейся из своей норы на поиски пропитания и возвращающейся с тяжелой добычей назад, подвергая себя по этой причине серьезным опасностям, полностью укладывается в алгоритм волшебной сказки.
С этой точки зрения исключительное внимание, отводимое бою за добычу (в том числе и за красну девицу) с могучим противником, превращение его в апофеоз повествования — это искажение средствами культуры генетически унаследованного порядка действий. Вспомните, как в детстве у вас наступал «катарсис» — радостное расслабление, в момент, когда в сказке говорилось о победе героя над чудовищем. Но после того как возникала уверенность, что возвращение героя с добычей домой — это ничем не омрачаемый хэппиэнд, оказывалось, что сказке еще далеко не конец и добру молодцу предстоит преодолеть не одно опасное препятствие.
«Основной миф» — это волшебная сказка, от которой отсекли все лишнее. Лишнее с чьей точки зрения? На этот вопрос легко ответить, обратив внимание на разные установки двух феноменов. Очевидно, что задача мифа заключается в воспитании решимости вступить в бой за добычу, а сказки – умения вернуться с добычей домой. Тем самым сказка отражает интересы индивида, а «основной миф» – вида, в действительности интересы народных вождей. По этой причине «заветные» сказки тайком передаются самим народом, а миф ему навязывается вождями в качестве божественной воли: «Мы должны делать то, что совершали боги в начале времен» (Шатапатха-брахмана).
«Основной миф» – это идеологическая уловка, при помощи которой господствующий слой овладевает массами. Она состоит в том, что в процессе сокращенного перевода биологической программы на язык культуры производится скрытая подмена исходного смысла выживания индивида. Готовность жертвовать жизнью за «отечество», т.е. в буквальном значении этого древнерусского юридического термина, за наследственные владения батюшки-царя, выдается за выражение глубинных чаяний народных масс.
Прямая связь мифа с биологией объясняет его преимущество в споре с доводами «чистого разума» — продукта исключительно верхних отделов головного мозга. Миф же начинается из подвала гипоталамуса — одной из наиболее древних частей мозга, ответственной за сексуальное и пищевое поведение, пронизывая оттуда все вышележащие слои нашей психики. Неслучайно в самых ранних вариантах «основного мифа» битва ведется либо за женщину, либо за стадо коров. Благодаря своей укорененности в физиологии мотив священной битвы с демоническим противником обладает «архетипической» и потому огромной силой воздействия: «Тот, кто говорит архетипами, говорит тысячей голосов» (К.-Г. Юнг).
Даже в тех случаях, когда «основной миф» обращается к прошлому, он является программой — политикой, устремленной в будущее.
Историческая память ни в коем случае не является суммой мифов. Это всегда один и тот же «основной миф». Историческая память — неизменная алгебраическая формула, в которой «X» героя и «Y» его противника принимают разнообразные имена участников преходящих событий. От смены значений отношение непримиримой битвы не на жизнь, а на смерть не меняется. Можно сказать, что отношение элементов формы являются истинным содержанием мифа.
Исходный «X» всех времен и народов — это небесный громовержец, а «Y» его пресмыкающийся противник — змей, дракон и прочие гады. В различных культурах этот вечный конфликт священного верха и дьявольского низа получил различные воплощения.
Для христианских народов, и Россия тут не является исключением, «основной миф» воплотился в поединке святого рыцаря Георгия Победоносца с драконом. В нашей стране этот образ со времен московских князей актуализирован в главном символе власти — государственном гербе. Поэтому русский правитель (князь, царь, император, генеральный секретарь, президент) — это всегда святой рыцарь, который борется со змием внешних врагов и внутренней измены.
Миф власти долгое время лишал ее противников символической опоры в общественном сознании. Единственным средством обрести благородный рыцарский образ и, тем самым, получить массовую поддержку было самозванчество Лжедмитриев и Емельяна Пугачева, выступавшего под именем Петра III против своей «супруги» Екатерины II. Иван Болотников и Степан Разин представлялись воеводами «воскресших» царевичей, соответственно Дмитрия и Алексея. Даже декабристы, проникнутые новомодными идеями, были вынуждены выводить солдат на площадь под предлогом сохранения присяги «законному» императору Константину, т.е. применять традиционный прием самозванцев.
Контр-миф власти, т.е. миф оппозиции, борющейся за власть, создан гениальным мифотворцем Александром Герценом. Он раз и навсегда избавил мятежников от необходимости привлекать народ обманными утверждениями, что они действуют от имени истинного царя. Издатель «Полярной звезды» поступил с гениальной простотой — он перевернул мифологические образы. Императору Николаю I приписал чудовищные свойства. Его противников-декабристов представил в виде святых рыцарей, «богатырей, кованных из чистой стали». Благодаря данному символическому перевороту древняя конструкция «основного мифа» заработала на новый мятежный лад.
Герцен не только лишил власть монополии змееборчества. Он добавил к этому языческому, по сути, ритуалу жертвоприношения врага, дополнительный смысл христианского самопожертвования. Декабристы не потерпели поражение в борьбе с драконом самодержавия, но, выйдя «сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение», добровольно принесли себя в жертву. Отчаянное выступление героев 14 декабря, неправедный суд над ними и жестокая казнь представляются в герценовском мифе как новое воплощение страстей Христовых, искупительная жертва за грехи образованного слоя перед народом. Декабристы не только святые рыцари, но еще и христианские мученики. Соединив взаимоисключающие мифологемы языческого жертвоприношения (убийства старого царя) и христианского самопожертвования Герцен придал мифу оппозиции не только смысловую глубину внутреннего противоречия, но и практическую эластичность. В ситуациях «революционного подъема» на первый план выдвигалась змееборческая ипостась. В «годы реакции» миф оборачивался своей христианской стороной святых страстотерпцев-мучеников.
На примере декабристов мы видим, сколь бездонной может быть пропасть между историческим и мифологическим взглядами на одно и то же событие. Мятежи в Петербурге и под Киевом, подавленные в одночасье, не произвели с точки зрения реальной политики никаких значимых последствий: «Зима железная дохнула// — И не осталось и следов» (Ф.И. Тютчев). Не случайно в обширной западной славистике почти все немногочисленные исследования декабристской темы принадлежат выходцам из России. Зарубежные специалисты, не подвергнутые облучению нашей исторической памятью, не находят ничего выдающегося в неудачливых заговорщиках. В то же время русские авторы до сих пор не могут освободиться от чар герценовских мифотехнологий: «И пишут, пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья» (В.В. Розанов).
Разбуженная Герценом память о декабристах стала «основным мифом» народившегося в пореформенной России слоя критически мыслящих личностей, который с легкой руки П.Д. Боборыкина стал именоваться «интеллигенцией». С тех пор декабристы выполняют роль метафоры мятежа, являются контр-мифом власти. Надо понимать, что это не локальный миф — частное значение «X» в змееборческом уравнении. Декабристы — это коллективная мифологическая персона, архетипический змееборец оппозиции. Также как в мифе власти за преходящими образами правителей просвечивает неизменный святой рыцарь Георгий, в контр-мифе за народниками, большевиками, диссидентами, несогласными вечно будут стоять святые рыцари-декабристы.
Тотальность мифа власти приводит к тому, что христианский образ Георгия Победоносца распространяется не только на первых князей-язычников, но и на советских правителей-атеистов. Миф декабристов в качестве контр-мифа власти также проецируется на всю глубину исторической памяти. В такой оптике не только мятежные наследники «первого поколения», но и средневековые оппоненты самодержавной власти: князь Андрей Курбский и митрополит Филипп Колычев, церковный реформатор Нил Сорский и религиозный консерватор протопоп Аввакум приобретают черты мифологических декабристов.
Формула исторической памяти России образована из непримиримого конфликта мифа власти и мифа декабристов, каждый из которых является контр-мифом своего конкурента. Именно благодаря мифологическому клинчу (и власть и интеллигенция видят друг в друге сатанинских чудовищ) сотрудничество власти и общества в нашей стране чрезвычайно затруднено. Исходы мифологического противоборства напрямую сказываются на поворотах русской истории. Поэтому историческая память является одним из важнейших фронтов идеологической битвы за русское будущее. Заглянув по обе стороны мифического фронта, мы получим важный материал для диагностирования душевного здоровья русского народа.
2. Декабристский миф в эпоху информационной цивилизации
Миф декабристов нацелен на свержение самодержавной власти. Утилитарный до мозга костей дедушка Ленин вспомнил в 1912 году о декабристах, разбудивших Герцена, отнюдь не ради ролевой игры с Инессой Арманд в поручика Анненкова и Полину Гебль. Гениальный борец за власть чувствовал, что подключение к мифологеме «трех поколений» усилит ненависть читателей к правнуку-тезке Николая-вешателя. Не только большевики, вся оппозиция царизму, включая кадетов, воспитывалась на герценовском мифе ненависти к дракону самодержавия.
После 1917 года красные фараоны по обычаю царствующих домов превратили декабристов в священных предков своей родословной. Победители в Гражданской войне усиленно выхолащивали из декабристов подрывное содержание. В сталинской интерпретации они были отнюдь не заговорщиками, мечтавшими «между лафитом и клико» импортировать французские либеральные идеи, а напротив, героями Отечественной войны, движимыми исключительно квасным патриотизмом.
Поскольку советский режим отличался от царского еще меньшей степенью свободы, то оппозиция ему могла осуществляться только в виде заговоров и мятежей. Опытный конспиратор Сталин учел недоработки царской охранки и создал аппарат превентивного уничтожения людей, способных к бунту. Благодаря такой селекции генофонда протестные движения даже в послесталинском СССР свелись почти исключительно к шептанию на кухне.
Но и этот робкий протест не мог осуществляться без опоры на историческую память. С 60-х годов прошлого века герценовская метафора мятежа начала поступательно захватывать сознание интеллигенции. Прикрываясь официальным мифом декабристов — предшественников большевиков, фрондирующие авторы из творческих союзов и Академии наук тиражировали крамолу эзоповым новоязом.
Символично, что семеро смелых, вышедших в 1968 году на Красную площадь в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию, накануне слушали «Петербургский романс» Александра Галича с его повелительным вопрошанием: «Можешь выйти на площадь,// Смеешь выйти на площадь// В тот назначенный час».
И это был не единственный в брежневском безвременьи случай преобразования мифа в протестное действие. Можно полагать, что массовое тиражирование декабристской метафоры силами талантливых писателей, филологов, художников, театральных деятелей и кинематографистов эпохи застоя в немалой степени содействовало тому, что в 1991 году на площадь перед Белым домом посмели выйти десятки тысяч людей.
В девяностые годы декабристский миф эпизодически воскрешался лишь единомышленниками Александра Проханова применительно к тем, кто в 1991 году не отдал приказ о штурме Белого дома, а также к защитникам того же почерневшего в 1993 году от танкового обстрела здания. Даже во многом иллюзорная возможность смены путем выборов местных и центральных властей отодвинула в то время декабристов на периферию общественного сознания.
Утверждение режима полковника госбезопасности закономерно привело к возрождению метафоры мятежа в России начала третьего тысячелетия.
Рейдерский захват НТВ 14 апреля 2001 года, символический захват помещения в приемной администрации президента РФ 14 декабря 2004 года, марши несогласных и другие акции гражданского сопротивления не только вызывали декабристские ассоциации в общественном сознании, но и, по крайней мере, в случае декабристов-лимоновцев, во многом вдохновлялись контр-мифом власти, извлеченным из архива исторической памяти.
Дело М.Б. Ходорковского представляет самый яркий в истории путинской России случай намеренного и последовательного использования имиджа декабриста.
Процесс ЮКОСа в немалой степени можно рассматривать, как борьбу имиджей, т.е. апелляцию к общественному мнению через мифологический образ змееборца. Государство навязывало представления о справедливом царе, который искореняет вороватых змеенышей-бояр. Пиарщики Ходорковского внедряли образ героя-мученика, вступившего в бой со шварцевским Драконом.
Надо признать, что кремлевским политтехнологам не было нужды проявлять чудеса изобретательности: царь — святой воин по определению. Сама должность В.В. Путина помогала формировать его имидж святого борца с хтонической нечистью. Также как торгашеские занятия и еврейское происхождение легко позволяли ассоциировать М.Б. Ходорковского с гадом ползучим. На Арбате в то время можно было увидеть веселые картинки от местных художников, ориентированных на рынок, т.е. на массового потребителя, на которых Путин-Победоносец побивает змия Ходорковского. Этот пример доказывает, что от пропагандистов правительства требовалось всего лишь поддерживать автоматизм народных представлений.
Перед пиарщиками М.Б. Ходорковского стояла трудновыполнимая задача. Им надо было превратить стереотипы общественного сознания. Приписать «драконьи» свойства «царю», а своего клиента одеть в непорочные одежды святого рыцаря. Задача сложная, но как показывает опыт трех русских революций и последней перестройки — решаемая.
Причащение к декабристам позволило поверженному Давиду внедрять свой «контент» в сознание верноподданных торжествующего Голиафа. Для прагматиков подобный имидж представляется нелепым. Ведь декабристы — поигравшие политики. Действительно, в рациональном западном мире поверженные «дворянские революционеры» не приобрели бы статус национальных героев. Но в сознании многих русских людей еще актуальны архаичные представления о тождестве взаимоисключающих состояний. Буквально в логике Оруэлла («Мир — это война», «Свобода — это рабство») «пораженья от победы ты сам не должен отличать». Истинный претендент на корону Царя Иудейского доказывает свое призвание, смиренно принимая терновый венец. Не столь давний опыт гонимого секретаря ЦК КПСС Ельцина показал, что в мученичестве, как в кащеевом яйце, таится харизма народного героя.
Ориентированная на мученичество («Ибо сугубо страдать хочу» — титулярный советник Мармеладов) особенность этнической психологии была взята на вооружение политтехнологами, внедрявшими имидж декабриста Ходорковского. Сближения очевидны: богатый человек, которому было что терять; руководитель неудавшегося восстания против власти; осужден шемякиным судом; сослан в Сибирь, где среди вечной мерзлоты воскресает к святости новой жизни.
Эффективность пиара Ходорковского отмечают как его сторонники, так и противники. Этапирование экс-главы ЮКОСа во глубину сибирских руд почти единогласно расценивается как «пиар-ошибка» властей. Даже те, кто выполняют госзаказ или ненавидят Ходорковского от души, едва произнеся слово «декабрист», против своей воли популяризируют экс-главу ЮКОСа.
Плодотворность метафоры доказывается возникновением многочисленных производных. Ходорковский — «первый декабрист», «новоявленный декабрист», «новый декабрист», «новый русский Ходорковский — декабрист» «неодекабрист», «нью-декабрист», «современный декабрист», «декабрист нашего времени», «декабрист 21 века», «наследник декабристов», «наш декабрист», «национальный герой-декабрист», «декабрист-ссыльнокаторжный», «эрудит-декабрист», «Миша-декабрист». Появляются пародии, шутки, анекдоты (верный признак популярности) в связи и по поводу «декабристского» пиара Ходорковского: «Товарищ верь — взойдет она, звезда пленительного счастья…. А на обломках самовластья напишут имя МБХ».
Но гораздо выразительнее о мощном пропагандистском эффекте свидетельствуют маргиналии — высказывания, где имя М.Б. Ходорковского сочетается с декабристами на уровне подсознательного воспроизведения медийных клише. Подобному ассоциативному «сбою» подвергся и луженный рупор «Единой России» гламурный писатель Сергей Минаев. Набирая в интернет-поисковике сочетание «декабрист Ходорковский», я с удивлением увидел ссылку на роман из жизни бездуховного офисного планктона. Беседа героев HYPERLINK “http://www.litportal.ru/genre40/author3015/book13979.html” «Духless`а», занимающихся «совместным курением марихуаны», перескакивает с русского народа на декабристов: «Какое, к черту, единение, какие декабристы? Они о жизни простого народа из французской беллетристики того времени узнавали. Декабрист Бестужев в тюрьме учил русский язык, чтобы со следователем общаться». От далекого народу декабриста герои незаметно переходят к обстоятельствам карьеры М.Б. Ходорковскому: «Научился кнопки правильные нажимать, быстро попадать на нужные этажи. И чем все закончилось?» Постепенно герой повествования впадает в наркотическое забытье: «Я думаю про Ходорковского, Бестужева и русский народ». Т.е. мятежные герои и пушкинского и нашего времени одинаково «страшно далеки» от нужд крепостных крестьян и рядовых менагеров. Видимо, для достижения успеха автору современной России должно продвигать кремлевский пиар, даже находясь в бессознательном состоянии. Но подсознание коварно. Оно выдает и самых верноподданных. После того как «обкурка вошла в свою финальную фазу», герой увидел в небе президента Российской Федерации в костюме Бэтмена: «Владимир Владимирович Путин <…> летел над страной и закрывал ее своими неестественно огромными перепончатыми каучуковыми крыльями, защищал ее от всех бед, невзгод, козней опальных олигархов, мирового терроризма и понижения цен на нефть». «Дракона заказывали?» — пиарщики Ходорковского могут получить честно заработанный гонорар. Тем более что Путин, и в самом деле, Дракон. По восточному календарю.
Метафора успешно усвоена массовым сознанием благодаря усилиям, как оппозиционных, так и прокремлевских СМИ. Как в знаменитом тесте на стереотипность мышления (Русский поэт? — Пушкин. Домашняя птица? — Курица) слово «декабрист» — все чаще вызывает ассоциацию «Ходорковский» и наоборот: «Мы говорим Ходорковский — подразумеваем декабрист». Независимо от восприятия — сочувственного или возмущенного — этой метафоры, она живет.
В страхе перед призраком «оранжевой революции» с Ходорковским во главе власти целенаправленно пригасили в 2005 году пафос 180-летнего юбилея декабристов. И это может главное доказательство эффективного внедрения метафоры «декабрист Ходорковский».
«Простой народ» — те, кто видят мир через кривое зеркало российского телевидения, а точнее через архетип Георгия Победоносца, поражающего змия, ее не приемлют. Но метафора «декабрист Ходорковский» рассчитана не на них. Ее целевая группа — интеллектуальная элита. Те, кто формируют и пропагандируют образы будущего. В непредсказуемых обстоятельствах, которые создает наша история, шансы на ее срабатывание равны отнюдь не нулю.
3. Кто и почему в современной России не любит декабристов?
Миф власти в приложении к бунтарям-декабристам выступает в качестве контр-мифа. Антидекабристские проекции современного общественного сознания далеко не однородны. Критика ведется с двух трудно совместимых точек зрения.
Первая принадлежит прагматикам, находящимся у власти. Эти люди цинично сочетают методы авторитарного правления и государственного вмешательства в споры хозяйствующих субъектов с формально демократическими «альтернативными» выборами и либеральными по своей социал-дарвинистской сути стратегиями распределения ВВП.
Также цинично их отношение к прошлому и в частности к декабристам. Вполне возможно, что технологи Кремля утирали слезу, глядя на «Звезду пленительного счастья» и даже сочувственно читали «декабристские» романы Тынянова, Эйдельмана, Окуджавы. Они не испытывают никакой такой личной неприязни к потерпевшим от мстительного императора Николая. В их публичном отношении к декабристам, вообще, нет ничего личного — только политический бизнес. Технологи власти понимают, что переместить декабристов в ряды «плохих» героев черно-белой исторической памяти — означает вышибить из под всяческих несогласных очень важную точку символической опоры. Они без излишнего фанатизма занимаются переписыванием истории в пределах, предписанных служебной инструкцией.
Технология декабристского контр-мифа власти исходит из следующих посылок: «Несогласные сравнивают себя декабристами? Согласимся с таким саморазоблачительным признанием. Поведав правду о том, кем были и за что боролись декабристы, мы продемонстрируем истинное лицо нынешних противников режима». Находчивый прием дискредитации политических оппонентов через очернение их символических предков свидетельствует, что технологи власти честно отрабатывают свое жалованье.
Разоблачение декабристского мифа ведется мифологическими же средствами. Согласно мифу власти православный император Николай I противостоял огнедышащему дракону безбожного Запада. В этой борьбе не на жизнь, а на смерть заговорщикам 14 декабря отводится предательская роль Мальчиша-плохиша. За бочку варенья да корзину печенья декабристы готовили удар в спину Православию, Самодержавию, Народности. Но рука Всевышнего и царя, и отечество спасла. Благодаря чему ужасы бессмысленной и беспощадной революции были отсрочены почти на столетие.
В таком мифодизайне декабристы низводятся на жалкую и комичную роль подручных заморского Змея Горыныча. В мифологии шутовского вида помощники основных действующих лиц «основного мифа» именуются трикстерами (англ. trickster — шалун, трюкач), так как сочетают в себе подлость намерений с неловкостью их исполнения. Таким образом, идеологи Кремля используют в отношении декабристов — героев антинаполеоновских войн технологию наполеоновского парадокса: «От великого до смешного — один шаг».
Антидекабристский миф бомбардирует историческую память нации по всем каналам массовой информации. В токшоу крупнейших телевизионных и радио каналов, в публикациях популярных газет, в книгах, написанных никому не известными «историками», но изданных в ведущих издательствах многотысячными тиражами, декабристы обвиняются, прежде всего, в том, что они, как и их современные потомки, «шакалили у иностранных посольств». Приуроченная к 185-летнему юбилею 14 декабря статья «Комсомольской правды» под названием «Восстанием декабристов руководила заграница?» — типичное произведение современного кремлевского декабристоведения.
К историческим декабристам можно предъявить множество претензий морального свойства. Но следователи императора Николая не обнаружили, хотя поиски велись, порочащих их связей с зарубежными представителями. Можно, конечно, допустить, что правительству Николая I было невыгодно в тот момент обнародовать факт участия иностранных правительств в заговоре декабристов. Но для того, чтобы сегодня обвинять их в предательстве интересов своей страны презумпция невиновности требует представить документы. Ни в одной из разоблачительных публикаций ни одного документального свидетельства не приводится.
Технологи власти действуют мифологически точно, но бесстрастно. Отсутствие творческой страсти к разрушению герценовского мифа значительно снижает эффект их контрпропагандистской деятельности.
Совершенно по-другому ведут себя публицисты, группирующиеся вокруг СМИ различных православных организаций монархической ориентации. Православные монархисты — бескорыстные романтики изоляционистского авторитарного режима. Нынешнюю власть они одобряют вслух за восстановление державных традиций осажденной крепости и шепотом критикуют за приверженность плотским искушениям гнилого либерального Запада.
В отрицательном отношении к декабристам монархисты опираются на церковную традицию. Поместный Константинопольский собор 842 года постановил ежегодно торжествовать победу православия над ересями, провозглашая особый чин (перечень проклятий). В России византийский чин был пересмотрен в 1766 году, видимо под влиянием мятежа В.Я Мировича (1764), желавшего посадить шлиссельбургского узника Иоанна Антоновича на престол, занятый Екатериной II. В чин было включено одиннадцатое анафематствование (проклятие, отлучение от церкви): «Помышляющим, яко православныя Государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению, и при помазании дарования Святаго Духа к прохождению великого сего звания в них не изливаются: а тако дерзающим противу их на бунт и измену, анафема, трижды».
Так как остальные пункты перечня грозят отлучением от церкви исключительно религиозным диссидентам, то «бунт и измена» против власти с канонической точки зрения означает впадение в ересь. Согласно букве этого церковного закона, его инициатор — Екатерина II и ее внук Александр I вместе с подельниками должны быть преданы анафеме за измену присяге и бунт против законных государей Петра III и Павла I.
Поскольку такового отлучения не последовало можно предположить, что одиннадцатое «анафематствование» осуществляется в симфонии с тезисом римского коллаборациониста апостола Павла: «нет власти не от Бога» (Рим.13:1). Следовательно, «бунт», с точки зрения идеологов православной монархии, — это небогоугодная и потому обреченная на поражение («мятеж не может кончиться удачей…») попытка захвата власти, понимаемая как религиозная ересь.
И в этом смысле декабристы, в отличие, например, от удачливых заговорщиков-цареубийц 1762 и 1801 годов, в независимости от «благости» освободительных целей, заслуживают не только земного суда, но и анафемы. Приняв такую логику, следует согласиться, что и дьявольский большевистский переворот был «попущен» свыше. Тогда все, кто безуспешно восставал против Софьи Власьевны, в том числе и православные священники — тоже еретики. Это отождествление бунта и ереси — безусловный рефлекс тех, кто приравнивает православие к самодержавию.
Отправной точкой контр-мифа в его православно-монархическом измерении является утверждение о мифической природе общеизвестных представлений о декабристах. Стратегическое направление дискредитации идет по линии «христианство — язычество». Ядро интеллигентского мифа заключается в уподоблении самопожертвования декабристов и Христа. Православные публицисты, среди которых не только бесноватые батюшки и по-женски невостребованные журналистки епархиальных ведомостей, но и десятки (!) кандидатов и докторов всевозможных наук, целенаправленно вышибают этот краеугольный камень интеллигентского самосознания. В их интерпретации декабристы не святые герои самопожертвования, а родоначальники кощунственной традиции жертвоприношения священного царя.
Это положение во многом противоречит фактам. Было бы ложью вслед за советской историографией полагать, что мысль о цареубийстве, если и присутствовала у декабристов, то носила едва ли не мимолетный характер второстепенного «элемента». Но не меньшей ложью является утверждение о том, что декабристы находили примеры такого рода действий исключительно у британских и французских революционеров. Надо быть ослепленным монархическим мифом, чтобы не замечать, что русская история — одно из самых обстоятельных учебных пособий по умерщвлению венценосных особ. Начиная от первых национальных святых — князей Бориса и Глеба, тянется список реальных и потенциальных владетелей русской земли, лишенных жизни самыми зверскими способами.
Для декабристов память о цареубийствах не была преданием старины глубокой. Последний по времени забой помазанника Божия табакеркой, случился уже на памяти старших по возрасту декабристов. Один из убийц императора Павла I — П. В. Голенищев-Кутузов даже поучаствовал в следствии по делу декабристов и в обряде их казни. Так, что в своих цареубийственных планах декабристы явились далеко не первооткрывателями, а наследниками богатой отечественной традиции.
Борьба за историческую память в числе важнейших мер предусматривает влияние на содержание школьных учебников и процесса образования. По мнению истинно православных декабристский миф должен быть удален из школьной программы, дабы не искушать малых сих.
Альтернатива декабристам усматривается в таких «настоящих благородных героях русской истории», как Николай I и «ошельмованный» неблагодарными современниками «контрразведчик» (!) Шервуд. Также предлагается ввести в пантеон национальных героев незаслуженно забытого борца с масонами «деятельного архимандрита» Фотия и других деятелей того времени, именуемых в советских учебниках «мракобесами».
Зеркальный подход — проявляем советский «негатив», получаем положительных героев — серьезная конструктивная ошибка технологов православно-монархического мифа. В герценовском мифе участники тайных обществ, по-человечески во многом несовместимые между собой, пресуществляются в одну мифологическую личность по имени «Декабристы». Противостоять ей в контр-мифе должен не «контрразведчик» и не «деятельный архимандрит». Единственная кандидатура, приемлемая логикой мифа, — это победитель в сражении на Сенатской площади Николай Павлович. Его шансы на победу в мифологическом поединке оцениваются исходя из того, что главная функция любого мифа — предоставлять неведомые прежде сакральные образцы мирского поведения. Миф также не может утвердиться в исторической памяти без героя-родоначальника, жертвой собственной жизни засвидетельствовавшего истинность своего послания.
У мифологических декабристов в этом смысле — все в порядке. Они — родоначальники идейно обусловленного мятежа, нацеленного на достижение общего блага. Для интеллигентов (не только большевиков) они выступают «первым поколением» героических предков, до сих пор предоставляя образцы непокорности и готовности страдать за правое дело. Декабристская виселица доказывает, что слова: «Ах, как славно умрем» (А.И. Одоевский) — были не только словами. Струящуюся кровь Пестеля и его товарищей невозможно смыть детергентом компрометирующих фактов: воровства, трусости, предательства. Итоговое самопожертвование героя-родоначальника искупает все его предыдущие грехи и создает прочный фундамент для мятежных дел потомков.
Контр-мифический оппонент декабристов также должен обладать жертвенными качествами творца нового строя общественной жизни. И в этом смысле у Николая — героя контр-мифа большие проблемы. По природе своей он не был своему пращуру подобен в самом главном. У императора, подморозившего Россию, напрочь отсутствовал преобразовательный порыв, благодаря которому Петр I стал, в том числе для декабристов и для Герцена, мифологическим отцом-основателем европейской империи. В исторической памяти победитель декабристов напрочь увязан с поражением в Крымской войне. Благодаря его государственной мудрости храбрый русский солдат с гладкоствольным ружьем и кремневым затвором не смог противостоять нарезным капсюльным винтовкам неприятеля, почти в четыре раза перекрывавшим дальность русского прицельного огня. При таких заведомо неравных условиях пуля-дура союзников побивала русский штык-молодец.
Никакими мифологическими технологиями этот факт изменить невозможно. Его не перекрыть предшествующими победами «Чингисхана с пушками» (А.И. Герцен) над средневековыми армиями персов и турок, а также над плохо обученными в большинстве своем войсками мятежных поляков и венгров. Помните, как Штирлиц, выходя от группенфюрера, спрашивал таблетку от головной боли? Запоминается не только последняя фраза, но и последнее деяние героя мифа. Нарва не только может, она просто обязана быть в начале славных дел. Но увенчиваться они должны Ништадтским договором, а не Парижским трактатом. Георгий Победоносец мифа власти из Николая не получается. Николаевский самодержавный миф терпит сокрушительное поражение в эрогенной зоне всех правых — символическом военном столкновении с драконом либерального Запада.
Кроме того, николаевскому мифу нечего противопоставить самопожертвованию декабристов. Даже если император не пал жертвой гриппа, а, согласно слухам, отравился, не выдержав позора покоренья Крыма западными державами («Евпатории в легких» по едкому замечанию А.И. Герцена), протянуть ассоциации от его смертного одра к Распятию все равно невозможно. В данном случае скорее возникают сближения с пресловутой осиной, на которой повесился получатель тридцати шекелей. Раскаяние не есть искупление.
Можно предположить, что контр-миф власти в его православно-монархическом изводе не сможет вытеснить декабристский миф русской интеллигенции. Удивительная живучесть герценовского мифа героев-мучеников объясняется не «происками» внешних и внутренних врагов, а вечным «Днем сурка» в политической ситуации имперской, советской и современной России. Мятежные образцы будут востребованы до тех пор, пока российское общество не сможет влиять на власть законными средствами, например, путем выборов.
Этот вывод справедлив с точки зрения плюрализма мнений, свойственного, пусть и со значительными ограничениями, современной Российской Федерации. Стремительно растущая доступность информационных интернет-ресурсов с каждым днем уменьшает монополию государства на формирование картины мира граждан. Технологи власти понимают, что в сложившихся условиях для убеждения публики им необходимо переспорить оппонентов. Таким образом, даже против воли пропагандистов Кремля, в обществе постепенно утверждаются демократические стандарты пусть пока и виртуального политического диалога. В перспективе свободы, которая лучше, чем несвобода, декабристский миф плещется в общественном сознании как рыба в воде.
Но православные монархисты, которых, забывая об опыте аятоллы Хомейни и нынешних революциях-реставрациях в арабском мире, в либеральной среде принято считать ряженными или фриками (англ. freak — человек отличающийся ярким, необычным внешним видом и вызывающим поведением), действуют по иным правилам. Плюрализм СМИ используется ими для утверждения единомыслия. Демонстративно заявляемый идеологами православной монархии отказ от «процесса спора» свидетельствует не только о признании недостаточной силы своих убеждений и слабости публицистического дара. Отводя публичному слову вспомогательную роль теста на «выявление близких по духу людей», публицисты-монархисты доказывают, сколь безразлична им воля народа-богоносца. Их пропаганда в действительности направлена на то, чтобы выделить из аморфной народной массы социально близких «пассионариев», укрепить эту «опричнину» в православно-монархической мессианской вере и подготовить к часу «X» силовых политических действий. Утверждать свой идеал Святой Руси воители веры собираются силами реакционного авангарда, который каждое слово в защиту декабристов будет парировать бейсбольной битой.
Но ведь такие сценарии представляют собой заговор сознательного меньшинства против деморализованного большинства, те самые «бунт и измену», за которые сами православные монархисты предают декабристов анафеме. Не зря говорится, что крайности сходятся.
Рассмотрение нынешнего состояния декабристского мифа и двух вариантов его контр-мифа ставит нас перед неутешительными вопросами: кто представляет реальную альтернативу циникам, находящимся у власти? есть ли у декабриста Ходорковского хоть какие-то шансы превзойти в состязании за приз массовых симпатий грядущего аятоллу Хомейни, вооруженного лозунгами Православия, Самодержавия, Народности? неужели сегодня, как и во времена николаевского камер-юнкера Пушкина «правительство все-таки единственный европеец в России», удерживающий ее от бессмысленного и беспощадного бунта? Русь, куда ж несешься ты?
Утопия бессов
Темы: политика
Главный итог книги «Бес утопии» — формулирование тезиса о том, что три образа будущего (идеология, антиутопия и утопия) основаны на трех архетипах жертвы (жертвоприношении детей, жертвоприношении стариков, самопожертвовании). Логика исследования требует развернуть аргументацию. Во-первых, необходимо показать, каким образом кровавые жертвы были переосмыслены в мифологии, фольклоре, литературе и в других проявлениях массовой и высокой культуры. Во-вторых, рассмотреть в исторической перспективе связь между переведенными в символический план разновидностями жертвоприношения и самопожертвования с одной стороны и образами будущего с другой.